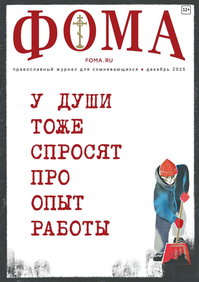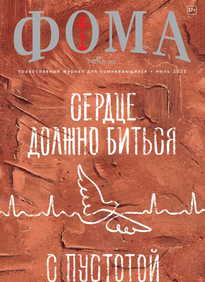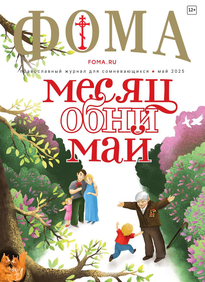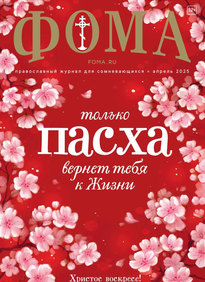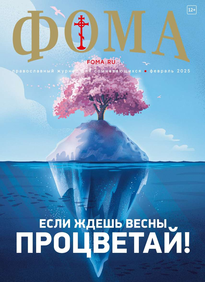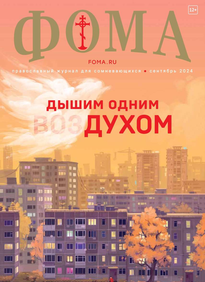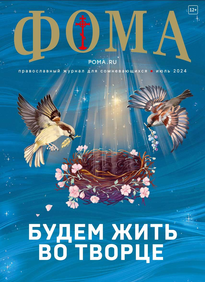Фильм Андрея Тарковского «Солярис» (1972) обрел мировую известность, но так получается, что в отечественном восприятии он заслоняет собой одноименный роман Станислава Лема (написан в 1959 году). У Тарковского получилось кино о человеческой душе, о муках совести, о покаянии, о правильном целеполагании, то есть о том, что человеческие отношения гораздо важнее научных и технических достижений. Об этом фильме мы не раз писали в «Фоме». Но что все-таки хотел сказать Лем? Почему его роман — равновеликое фильму произведение и почему они друг с другом несовместимы, почему находятся в разных смысловых пространствах? Вот в этом я и попробовал разобраться.
«Солярис» я впервые прочитал в очень юном возрасте, кажется, еще до окончания школы — раньше, чем посмотрел фильм Тарковского. И со мной получилось как со многими: впечатления от фильма перекрыли впечатления от романа, который мне тогда не очень-то и понравился. Мне же хотелось контакта с инопланетным разумом, а вместо этого какая-то невнятная история с безумными учеными на исследовательской станции, какие-то создаваемые разумным океаном биороботы, а главное, ничем хорошим всё это не кончается. Где позитив? Где победа прогресса и разума?
Проще сказать, я тогда роман Лема не понял абсолютно. А перечитал лишь недавно, случайно узнав о конфликте Лема с Тарковским из-за фильма 1972 года. Но когда тебе почти шестьдесят, воспринимаешь книги иначе, чем когда тебе было почти шестнадцать.
Пару слов о конфликте: Лему крайне не понравился сценарий, он скрепя сердце согласился, чтобы его имя звучало в титрах, но с Тарковским поссорился и впоследствии, по его словам, даже не досмотрел «Солярис» до конца.
Скажу сразу: к Тарковскому как к сценаристу и режиссеру у меня никаких претензий. Он не внес в фильм какой-то явной отсебятины (за исключением разве что предыстории главного героя, Криса Кельвина). Все те вещи, которые он поставил во главу угла, действительно присутствуют в романе. Все эти проклятые вопросы, угрызения совести, попытки начать отношения с чистого листа и боль от понимания, что никакого чистого листа не существует, все эти размышления о том, чего мы (то есть человечество) хотим от космоса — всё это в тексте Лема есть.
Суть конфликта, на мой взгляд, в том, что вещи, важные для Тарковского, для Лема были антуражем, задним планом, он их ввел в текст для того, чтобы оттенить свою главную мысль. А для Тарковского, наоборот, именно они оказались наиболее интересными, их он воспринял как передний план, а философские построения — как фон. Представьте себе портрет: кто-то стоит в библиотеке, на фоне книжных стеллажей и картин на стенах. Одним интереснее будет изображенный на холсте человек, другим — обстановка. Вот так же, на мой взгляд, получилось у Лема с Тарковским.
Но получилось это именно потому, что Лем — блестящий художник, его «декорации» представляют собой самостоятельную ценность. Да, он вдохновлялся философскими размышлениями, когда писал «Солярис», но вольно или невольно изобразил внутренний мир главного героя, Криса Кельвина, с беспощадной психологической точностью. Будь роман беллетризованным философским трактатом, вряд ли бы он привлек внимание Тарковского.
Кстати, Лем позднее говорил, что замысел «Соляриса» складывался у него постепенно, в процессе написания, что, работая над первыми главами, он сам еще не понимал, к чему все это, и лишь потом частички мозаики сложились у него в цельную картину.
Что хотел сказать Лем?
Обычно так рассуждать нельзя: что, мол, хотел сказать автор? В талантливом произведении много смысловых уровней, и сам автор не всегда их видит. Часто они попадают в текст сами собой, «из воздуха». То есть, конечно, все равно из писательской головы, но непроизвольно. Я уж не говорю о том, что, кроме авторской интерпретации, существуют и читательские, имеющие такое же право на существование — лишь бы не противоречили тексту и законам логики.
Но с Лемом иначе. Это писатель, который очень четко понимал, что именно хочет высказать, и явно артикулировал свою мысль — причем не только в самих книгах, но и за их пределами. То есть в письмах, интервью, публичных выступлениях.
Так и с «Солярисом». Живой и разумный океан на планете Солярис — это метафора непознаваемого. В принципе недоступного познанию. Философ Эммануил Кант называл это «вещью в себе». То, что принципиально невозможно понять извне. И Лем в открытую ссылался на философскую концепцию Канта, объясняя собеседникам смысл своего романа.
По сюжету, люди уже более столетия пытаются этот океан изучить, понять, установить с ним контакт — но без толку. Выстраивается множество гипотез, по-своему красивых и убедительных, под каждую из них можно подобрать подтверждающие факты из огромного массива наблюдений, но ни одна из них не обладает предсказательной силой, ни одна из них не помогает понять Солярис.
И более того, сам Солярис тоже проявляет интерес к людям, тоже пытается их понять. Обладая огромными возможностями, ставит над своими исследователями эксперименты, отправляя к ним копии людей, с которыми связаны травматические воспоминания. Но без толку. Контакт, получается, невозможен с обеих сторон. Не потому, что люди глупые. Не потому, что разумный океан Солярис глупый. А просто потому, что познание, как считал Лем, не безгранично. У него есть свои пределы. И у человеческого сознания, и у нечеловеческого, если таковое когда-либо будет обнаружено.
Поэтому Лем крайне скептически относился к самой идее — установить контакт с внеземными цивилизациями. Это, с его точки зрения, может оказаться принципиально невозможным. Что, если внеземной разум — это для нас вещь в себе? И что, если мы для него — тоже?
И как к этому относиться? Тут же внутренний конфликт для человечества — нам свойственно стремиться к познанию, развивать свой разум, ценить его не только как инструмент для улучшения жизни, но и сам по себе. Мы не можем не познавать, мы без этого задохнемся и закиснем. Но как же больно в этом случае признать, что есть нечто, чего мы никогда, ни при каких условиях понять не сможем! Вообще, признавать свою ограниченность больно.
Откуда проистекает эта боль? Христианин сказал бы, что из-за гордыни, но атеист Лем с таким ответом вряд ли бы согласился.
Обратим внимание на финал романа: Кельвин остается на планете и продолжает изучать мыслящий океан, хоть умом и понимает, что дело это безнадежное. Однако «но уйти — значит зачеркнуть ту, пусть ничтожную, пусть существующую лишь в воображении возможность, которую несет в себе будущее».
Но вернемся к мысли Лема. Да, есть принципиально непознаваемые вещи. Но человек, чтобы оставаться человеком, должен пытаться их познать. Тут на язык просится ироническое «не добегу, так хоть согреюсь», но какова, с точки зрения Лема, альтернатива? Убежать в простую и понятную земную жизнь от того, что он сам же в романе назвал «временем жестоких чудес»? Такую альтернативу Лем показал в романе «Возвращение со звезд» (в Польше издан в том же 1961 году, что и «Солярис»). Сытый, скучный, совершенно бездуховный мир...
В этом-то и трагедия того мировоззрения, которого придерживался Станислав Лем. Выбор только между сытым болотом — и жестокими чудесами, не сулящими почти никакой надежды. Третьего не дано.
Что хотел сказать Тарковский?
А теперь попробуем прочитать «Солярис» под другим углом — как это сделал Андрей Тарковский, вызвав негодование Лема. Попробуем поменять местами главное изображение и фон. Пусть фоном станут философская проблематика, пределы человеческого разума, вещи в себе, парадоксы солипсизма (это когда Кельвин пытается понять, не глюк ли всё происходящее с ним). Главным же станут человеческие проблемы, которые Лем, повторю, изобразил мастерски, глубоко и точно.
Напомню основную сюжетную линию: Солярис, пытаясь понять изучающих его землян, каким-то непостижимым для нас образом вытаскивает из их памяти самые тяжелые, мучительные переживания и материализует их. К исследователям являются те, о которых им хотелось бы забыть, те, по отношению к которым они испытывают глубокую вину. Например, к Кельвину приходит его возлюбленная Хари (в другом переводе — Хэрри), покончившая с собой одиннадцать лет назад после разрыва отношений, причем Кельвин убежден, что виноват именно он: проявил эгоизм, нечуткость, грубость. И эта вина в нем сидит занозой.
У других — Гибаряна, Снаута, Сарториуса — что-то другое, свое. Возможно, еще хуже. Услышав признание Кельвина, Снаут комментирует: «Ах ты, невинное дитя!» И поясняет свою мысль: «То, что произошло, может быть страшным, но страшнее всего то, что... не происходило... Никогда. <...> Что такое нормальный человек? Человек, который не совершил ничего ужасного? И даже не подумал ни о чем подобном? А что, если он не подумал, а у него только мелькнуло в подсознании десять или тридцать лет назад? Может, он забыл, не боялся, так как знал, что никогда не сделает ничего плохого. Теперь представь себе, что вдруг, средь бела дня, при других людях, встречаешь это во плоти, прикованное к тебе, неистребимое. Что это?»
Если смотреть с христианских позиций, речь идет о страстях — мыслях и желаниях, постепенно подчиняющих себе человеческое сознание и волю. То, что до поры до времени сидит у тебя внутри и никому не видно (возможно, и ты сам не замечаешь) — оно же есть! Оно ждет своего часа. Солярис просто показывает людям их внутреннюю суть. «Вот он, этот Контакт! — говорит Снаут. — Увеличенное, как под микроскопом, наше собственное чудовищное безобразие, наше фиглярство и позор!!!»
Это увидел в тексте Тарковский, об этом он и говорил в своем фильме. О том, что человек чаще всего не знает себя. «Мы прилетели сюда такими, каковы мы есть на самом деле; а когда другая сторона показывает нам нашу реальную сущность, ту часть правды о нас, которую мы скрываем, мы никак не можем с этим смириться». Но здесь слова не Тарковского, а Лема, вернее, его героя, Снаута. И это прямо сказано в тексте.
Для Тарковского, как для христианина, именно это стало главным. Искаженная грехом человеческая природа плюс дарованное Богом нравственное чутье, способность различать добро и зло дают в результате угрызения совести, причем, пока совесть болит, человек духовно жив, у него есть еще возможность сделать следующий шаг — обратиться к Богу и покаяться. Или не сделать — и терзаться вечно.
То, как выстраивает Кельвин отношения с Хари, это ведь тоже интуитивные попытки покаяния. Попытки начать отношения «с чистого листа», будучи взрослее, мудрее, добрее… Попытки, не кончающиеся ничем, потому что — и тут Лем затрагивает уже новую тему! — Хари в итоге предпочла быть уничтоженной. Ведь кто она такая? Материализованная память Кельвина о давно погибшей девушке. Но это не биоробот, не имитация — у таких «гостей», как называют их герои романа, есть самосознание, свобода воли, эмоции. Хари развивается, пытается понять себя, пытается понять смысл своего существования — и приходит к выводу, что смысла никакого нет, что она создана Солярисом, то есть неким абсолютно чуждым сверхразумом.
Тут напрашивается параллель с «Братьями Карамазовыми» Достоевского, когда Иван говорит о том, что готов вернуть Богу билет в рай, но это была бы неверная параллель, потому что Иван говорит все-таки о Боге, пускай и своеобразно Его понимая. Здесь же у нас не Бог, а Солярис. Нечто абсолютно иное. Не Бог и не дьявол, а что-то из совершенно другой сферы. И если оно, иное, создало тебя для каких-то своих непонятных целей, так зачем тебе участвовать в его замысле? Лем не дает подробно внутренних размышлений Хари, мы видим ее только глазами Кельвина, но, мне кажется, такая реконструкция имеет право на существование.
Здесь перед нами тема уже не столько психологическая, сколько метафизическая. Ни много ни мало — смысл жизни! Каждый человек об этом рано или поздно задумывается, и если религия дает внятный ответ, то в материалистической картине мира все зыбко и туманно. Красивые афоризмы вроде «смысл жизни — в самой жизни» далеко не всем кажутся убедительными, призыв не заморачиваться такими вопросами выглядит как «а ну заткнулся!». Традиционные аргументы типа «ради детей, внуков» или, шире, «ради счастья будущих поколений» тоже не работают — ведь будущие поколения, при таком подходе, тоже не обретут счастья, они тоже станут жить исключительно ради своих потомков.
Да, этого напрямую в тексте «Соляриса» не сказано, но, размышляя над судьбой Хари, вполне можно об этом задуматься. Для христианина смысл его жизни — в стремлении к Богу как абсолютному благу. Христианин знает, зачем Бог привел его из небытия в бытие, знает, что земная жизнь — это крайне важная, но не единственная ее стадия. Тут тоже возможны сомнения и недоумения (вспомним того же Ивана Карамазова), но, по крайней мере, тут есть основа и для размышления, и для чувствования. Вера же дает не только интеллектуальные, но и экзистенциальные ответы. А вот неверующим сложнее.
И еще одна человеческая тема есть в «Солярисе» — уже не столько личностная, сколько общекультурная. Роман посвящен контакту землян с внеземным разумом. И конечно, встает вопрос: а какова цель такого контакта? Зачем искать во вселенной «братьев по разуму»? Чтобы что? Вот мнение Снаута (мне кажется, через него Лем озвучил многие свои мысли, хотя далеко не всегда мысли героя выражают авторские).
«Мы отправляемся в космос, готовые ко всему, то есть к одиночеству, к борьбе, к страданиям и смерти. Из скромности мы вслух не говорим, но порою думаем о своем величии. А на самом деле — на самом деле это не все, и наша готовность — только поза. Мы совсем не хотим завоевывать космос, мы просто хотим расширить Землю до его пределов. На одних планетах должны быть пустыни вроде Сахары, на других — льды, как на полюсе, или джунгли, как в бразильских тропиках. Мы гуманны и благородны, не стремимся завоевывать другие расы, мы стремимся только передать им наши достижения и получить взамен их наследие. Мы считаем себя рыцарями Святого Контакта. Это вторая ложь. Мы не ищем никого, кроме человека. Нам не нужны другие миры. Нам нужно наше отражение. Мы не знаем, что делать с другими мирами. С нас довольно и одного, мы и так в нем задыхаемся. Мы хотим найти свой собственный, идеализированный образ: планеты с цивилизациями, более совершенными, чем наша, или миры нашего примитивного прошлого».
О чем тут сказано? По сути, о том, что как отдельный человек способен испытывать одиночество и тяготиться им, так и целая цивилизация тоже. Главный мотив «Святого Контакта» — не жажда познания, а преодоление одиночества во Вселенной. И у такого чувства одиночества есть глубокие причины, связанные вовсе не с космосом, а с человеческой культурой. Речь ведь, по сути, о метафизическом одиночестве, проистекающем из-за потери непосредственной связи с Богом. Человеческая душа томится, ей плохо без Бога, но человек — особенно воспитанный в безрелигиозной культуре — этого не понимает и тоску по Богу принимает за тоску по разумным инопланетянам. И мечтается, что вот установим мы с ними контакт — и вся жизнь наша преобразится, станет, может быть, и не лучше в прагматическом плане, но более осмысленной. То есть в глубинах космоса люди надеются отыскать то, что находится в глубинах собственной души.
Бог — не Солярис
Разумный океан на планете Солярис — непостижим, ученые выдвигают разные гипотезы, но никто не знает правды, да и не узнает. Это четко сказано в романе. То есть в книге, сочиненной писателем. А есть ли нечто подобное в нашей реальной жизни? Есть ли нечто, аналогом чего служит придуманный Лемом разумный океан?
И да, и нет. Размышляя о непостижимости Соляриса, мы, конечно, проводим параллель с Богом. Бог ведь тоже непостижим! Мы же с Ним принципиально разные, у нас, как сказали бы философы, разный онтологический статус. Бог — Создатель мира, причем под «миром» мы понимаем и материальное, и духовное. Бог не имеет никакой внешней причины Своего существования. Бог — вне пространства и времени. Мы — совсем другие. Мы появились на свет благодаря Его воле, мы находимся в пространстве и времени, наши возможности ограничены. Как же мы можем понять Его?
Нередко приводят такую аналогию: годовалый малыш смотрит на своего папу. Как он может понять папины мысли, папины проблемы, папины страхи и надежды? У него нет еще не только необходимого опыта, но и мышления, способного отталкиваться от опыта. Но малыш и его папа — люди, рано или поздно малыш перестанет быть малышом и поймет отца. Принципиальные различия между ними со временем сгладятся. А человек никогда не поймет своего Создателя, потому что онтологическая разница между ними неустранима.
Так, да не так. Действительно, мы от Бога отличаемся принципиально. Но из этого не следует, что мы вообще ничего о Нем не можем узнать и что Он для нас — кантовская «вещь в себе».
Во-первых, есть основа для хотя бы частичного понимания. Бог творит нас по Своему образу, мы призваны стать Его подобием. Это означает, что каждый с рождения получает Его дары — разум, свободу воли, способность различать добро и зло, способность творить. То, чем обладает и Он сам. Да, эти дары не абсолютны, да, человек может их не развивать (вспомним евангельскую притчу о талантах), но исходно они есть.
Во-вторых, Бог хочет, чтобы мы Его познавали. Для этого Он открывает нам Себя и посредством Священного Писания (Библия — это собрание богодухновенных книг, написанных, если можно так сказать, в соавторстве Бога и людей), и непосредственно воздействуя на подготовленные к этому человеческие души (отсюда — совокупный духовный опыт Церкви, называемый Священным Преданием). Наконец, третий источник — это наш личный опыт. Я говорю не о великих подвижниках и праведниках, а об обычных верующих людях, которые иногда ощущают «прикосновения Бога» — в том, как соединяются разные события их жизни, в том, как отзывается Бог на их молитвы. Мы вполне способны такие вещи замечать и делать выводы — особенно если соотносим свои выводы с Писанием и Преданием.
В-третьих (и с этого, наверное, нужно было начать), Бог соединился с нами. Я имею в виду Бога Сына, второе Лицо Пресвятой Троицы. Он воплотился, облекся в человеческую природу — и не фиктивно, не «для вида», а по-настоящему. Он полностью стал Человеком Иисусом, и лишь греховной поврежденности человеческой природы в Нем не было. Он действительно умер на Кресте и действительно воскрес из мертвых, вознесясь спустя сорок дней к Богу Отцу — и тем самым обóжил человеческую природу, открыл каждому из нас возможность бесконечно приблизиться к Нему. При таком приближении, таком тесном соединении с Ним (а в полной мере оно раскроется только после Страшного суда) человек, конечно, не становится полностью равен Богу, онтологические различия все равно сохраняются, но нет того предела, выше которого никому не подняться.
Тут уместна аналогия из математики: понятие потенциальной бесконечности. Например, количество всех чисел бесконечно, потому что не существует «самого большого числа». К любому числу можно прибавить единицу, и оно станет больше. Вот так же и познание Бога. Полностью, стопроцентно, никогда познать не сможем, но никогда на этом пути не остановимся.
Так что наш Бог — не Солярис. Солярис непознаваем принципиально, таковы «условия игры», которую предлагает Лем своим читателем. А вот настоящий Бог, наш Создатель, познаваем, хоть и не до конца. Просто потому, что конца здесь нет.
И все же вернемся к Тарковскому
Я собирался в этой статье ограничиться только разбором романа Лема, но вынести за скобки фильм Тарковского не получается — потому что мировоззрение режиссера, мировоззрение в основе своей христианское, дает надежду там, где у Лема надежды почти нет. Да, Лем и Тарковский — они о разном, но оба все-таки размышляют об одном: есть ли надежда у человека (а шире — у человечества), который узнал печальную правду о своей душе. И вот о том, что Тарковский может противопоставить горькому, пессимистическому взгляду Лема, есть смысл сказать.
В начале фильма есть сюжетно совершенно неважный, но очень метафорический эпизод: герой второго плана, Бертон, едет на машине по огромному мегаполису, перед ним открываются огромные пространства, развилки множества дорог, сменяют друг друга урбанистические пейзажи. Здесь перед нами символ человеческого стремления освоить внешний мир, покорить его, уйти в нечто новое, неведомое (не случайно этому эпизоду предшествует пастораль загородного дома родителей Криса Кельвина). А следующий эпизод после автострады — это уже Солярис, исследовательская станция. Символ очевиден: герой (на этот раз уже главный), покинув родной дом, оказывается в некой ином мире, «стране далече». То есть Тарковский явно намекает на евангельскую притчу о блудном сыне, на ее начало. Сын в поисках новых впечатлений, нового счастья уходит от отца в иные земли. Счастья не находит. На Солярисе Крису плохо, его мучают угрызения совести, которые доходят до предела, когда Хари не стало.
Но самая главная метафора — это финальный эпизод, завершающий параллель с притчей о блудном сыне. Крис возвращается домой, к отцу, встречающему его на пороге дома, падает перед ним на колени. Тут буквально воспроизводится знаменитая картина Рембрандта «Возвращение блудного сына» (60-е годы XVII века). Выходит, что Крис не просто увидел свои грехи, но захотел стать иным, захотел очиститься от них. И не просто захотел, а кое-что сделал для этого — вернулся к отцу, вернулся в дом, где прошло его детство, где он был счастлив, где душа его еще не была повреждена.
То есть речь о покаянии. И если вся эта линия в фильме — метафора евангельской притчи, то сама притча, как мы прекрасно знаем, тоже метафора. Метафора возвращения человека к любящему его и ждущему его Богу. Таким образом, проводя зрителя через одну метафору к другой, Тарковский, по сути, говорит: только Бог может исцелить наши искалеченные грехом души, только вернувшись к Нему, мы станем настоящими, только так мы познаем и Его, и себя.
Впрочем, Тарковский не был бы Тарковским, если бы на этом все закончилось. Мысль его сложнее. И что мы видим? Все это — отчий дом, деревья, речка, поля, автомобильные дороги — находится на маленьком островке, а островок этот окружает бескрайний океан Соляриса.
Как это понимать? Перед нами сложная метафора, допускающая разные трактовки. Например, что никуда на самом деле Крис Кельвин не вернулся, он по-прежнему находится на Солярисе. Просто разумный океан, считав его энцефалограмму, вольно или невольно помог Кельвину осуществить мечту о возвращении к отцу. Материализовал остров, дом, отца... На такую версию, кстати, работают некоторые странности этой материализации — в доме отца идет дождь. Не на улице — там дождя нет, а именно в самом доме, причем и отец, и Крис принимают «внутренний ливень» как должное.
Напрашивается мысль, что Солярис, пытаясь понять своих «гостей», землян, материализует самые сильные их мысли и переживания. И это ранее было нечто ужасное, потому что доминантой героев были душевная боль, муки совести. Но Кельвин-то теперь изменился, теперь его доминанта — покаяние, любовь к отцу, стремление вернуться. И океан, считав все это из его головы, воплотил в материальные формы.
Значит, получается, что на самом деле никакого покаяния, никакого возвращения к отцу не было? Нет, не получается! Даже если все это — материализация мечты, то мечта-то все равно была! Субъективно Крис все равно покаялся, качественно изменился. Не океан его изменил, а он сам, своей собственной волей. Он все равно прошел путь блудного сына из притчи, все равно вернулся к отцу — хотя бы в собственном воображении. Выходит, Солярис может творить и что-то доброе? Если так, то получается новая метафора, вполне христианская: исцеляясь духовно, человек каким-то непостижимым образом исцеляет и внешний мир, делает его добрее.
Но возможна и другая интерпретация. В ней важно не то, что окружающий островок океан — это именно разумный океан планеты Солярис. Важно то, что и островок, и океан — символы. Океан — символ огромного мира, бесконечного (и, по большому счету, ненужного для спасения души) пространства. А островок — это то самое главное, что нужно. Это место встречи человека с Богом. То есть душа. Много ли места занимает душа? Здесь уместно и такое сравнение: наша планета, Земля, лишь песчинка по космическим меркам. Вселенная огромна, Земля перед ней ничто, если смотреть с точки зрения космологии. Но Земля — это самое главное, что у нас есть, нам совершенно незачем сравнивать ее размеры со всей Вселенной. Островок может казаться маленьким, но именно там, на островке, герой обретает то, к чему долго и мучительно стремился: связь с Богом.
Вот что можно увидеть в фильме Тарковского, который так вольно обошелся с романом Лема. С романом, в котором ничего этого нет — ни покаяния, ни возвращения человека к Богу, а только робкая, вопреки всем резонам, надежда, что, может быть, время жестоких чудес приведет к чему-то хорошему.
У Тарковского как-то светлее, по-моему.