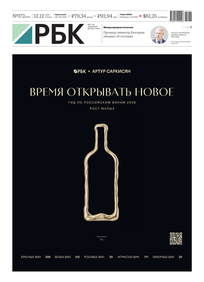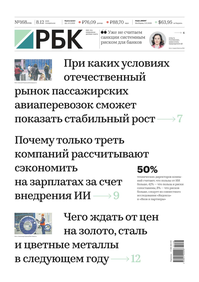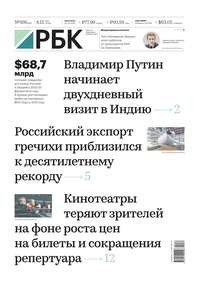Международная организация труда (МОТ) и Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) в сентябре опубликовали исследования, согласно которым жизненные стартовые условия по-прежнему в значительной степени предопределяют экономическое будущее людей.
Так, в докладе ОЭСР «Иметь или не иметь — как сократить разрыв в возможностях» отмечается, что в странах с развитой экономикой свыше 25% неравенства доходов связано не с личными заслугами, а с унаследованными факторами: полом, территорией рождения и социально-экономическим статусом родителей. Их доля варьируется от менее 15% в одних странах до более 35% в других. Географические различия создают значительные барьеры: жители бедных регионов испытывают ограничения в доступе к образованию, здравоохранению и занятости, что снижает их шансы на социальный и экономический рост.
Согласно исследованию МОТ «Социальная справедливость в 2025 году», обстоятельства рождения — такие как страна и пол — предопределяют 71% совокупных доходов человека на протяжении жизни. При этом, как отмечают авторы доклада, для полного преодоления гендерного разрыва в сфере занятости при нынешних темпах потребуется приблизительно сто лет. Хотя за последние десятилетия был достигнут значительный прогресс — сокращение масштабов детского труда и бедности, рост производительности, — ряд проблем сохраняют остроту: около 800 млн человек по-прежнему живут в условиях бедности, 58% работников заняты в неформальном секторе, а защита трудовых прав ослабевает. По данным ООН, численность населения мира в настоящее время превышает 8 млрд человек.
ВИДЫ СОЦИАЛЬНОЙ МОБИЛЬНОСТИ
Социальная мобильность — это способность человека менять положение в обществе, которая проявляется в нескольких формах.
Горизонтальная: смена работы или места жительства без изменения статуса.
Вертикальная: перемещение вверх (повышение дохода, статуса) или вниз.
Межпоколенческая: изменение статуса по сравнению с родителями.
Внутрипоколенческая: карьерный рост в течение жизни.
В глобальном рейтинге социальной мобильности, который составляет Всемирный экономический форум (ВЭФ), страны оцениваются по целому ряду критериев: качество образования и здравоохранения, доступ к технологиям, уровень социальной защиты и условия на рынке труда. Первые места в этом индексе занимают Дания, Норвегия, Финляндия, Швеция и Исландия. Россия находится на 39-й позиции с результатом около 65 баллов из 100, опережая многих партнеров по БРИКС, но отставая от большинства европейских государств.
БАРЬЕРЫ ДЛЯ РАВНЫХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ В РОССИИ
Россия достигла рекордно низкого уровня бедности — 7,2% по итогам 2024 года, заявил президент Владимир Путин на ПМЭФ-2025. Несмотря на это, коэффициент Джини, показывающий неравенство доходов, вырос за прошлый год с 0,405 до 0,408, а разрыв между 10% самых обеспеченных и 10% самых бедных остается значительным — более чем в 15 раз.
Неравенство возможностей в России связано с большими расстояниями и неравномерным социально-экономическим и инфраструктурным развитием территорий, считает аналитик Института комплексных стратегических исследований (ИКСИ) Елена Киселева. Так, уровень жизни и развитие человеческого капитала существенно разнятся между крупными городами и сельской местностью. По данным РАН-ХиГС, стартовые возможности, включая пол, место рождения и образование родителей, объясняют до 25% неравенства наблюдаемых трудовых доходов.
«Лифт социальной мобильности в России работает, но его эффективность сильно зависит от «этажа», на котором человек находится изначально», — признает и руководитель направления аналитики Института экономики роста им. П.А. Столыпина Сергей Васильковский.
Васильковский указывает, что дети из обеспеченных и образованных семей получают не только финансовый капитал и доступ к качественному образованию — лучшие школы, подготовительные курсы к ЕГЭ, престижные вузы, но и человеческий капитал — полезные связи, социальные навыки и понимание того, как действовать в жизни. Это обеспечивает более ранний доступ к престижной работе и создает подушку безопасности. Дети из регионов и малообеспеченных семей часто не могут конкурировать из-за разницы в качестве школьной подготовки и финансовых возможностях. Кроме того, согласно социологическим исследованиям, низкий доход и низкий уровень образования родителей с высокой вероятностью передаются их детям, «создавая замкнутый круг бедности».
Также, как отмечает доцент кафедры статистики Государственного университета управления (ГУУ) Татьяна Першина, отдельным барьером является гендерное неравенство. Так, Россия входит в тройку стран G20 с наибольшим разрывом в оплате труда: женщины зарабатывают на 30,4% меньше мужчин. При этом доцент кафедры экономической социологии НИУ ВШЭ Анита Поплавская обращает внимание на интересный феномен — «гендерный парадокс». Несмотря на «объективно более низкие доходы», женщины чаще выражают более высокую удовлетворенность работой. По ее мнению, это объясняется сравнительно меньшими притязаниями, вызванными необходимостью совмещать карьеру с заботой о семье и бытом.
КАКИЕ ОСОБЕННОСТИ ВЛИЯЮТ НА ПРОБЛЕМУ НЕРАВЕНСТВА В РОССИИ
Как указывает Васильковский, в России доминирует модель гиперцентрализации: Москва, Санкт-Петербург и несколько крупных городов-миллионников концентрируют основную часть финансовых, образовательных и карьерных возможностей. «Разрыв в качестве жизни и доступе к благам между столицей / крупными городами и остальной страной оставляет огромный отпечаток на социальной стратификации в стране. На это наслаивается дифференциация между регионами-донорами и депрессивными регионами. Это напрямую влияет на финансирование школ, больниц и социальных программ», — говорит эксперт.
Профессор кафедры психологии и развития человеческого капитала факультета социальных наук и массовых коммуникаций Финансового университета Александр Сафонов отмечает, что деление на сильные и слабые регионы — постоянная тема государственных дискуссий. В моногородах или сельской местности, где выбор работодателей ограничен, люди вынуждены мириться с зарплатами, обусловленными локальной экономической ситуацией. Классический пример — разница в оплате труда учителей и врачей в Кабардино-Балкарии и Москве. По данным Росстата на июнь 2025 года, средняя зарплата в Москве (177 тыс. руб.) в три раза превышала показатель Северо-Кавказского федерального округа (59,9 тыс. руб.) при среднероссийском значении 103,2 тыс. руб.
Следствием этого является миграционный отток: в отдаленных регионах (Сибирь, Дальний Восток, Северный Кавказ и др.) и сельских районах люди повышают социально-экономический статус скорее через переезд в более успешные регионы, чем за счет укрепления собственных позиций на местах, поясняет Поплавская.
Младший директор по суверенным и региональным рейтингам агентства «Эксперт РА» Владислав Бухарский подтверждает, что стабильный рост доходов характерен в первую очередь для жителей крупных агломераций и региональных центров с диверсифицированной экономикой и конкурентным рынком труда (Москва, Санкт-Петербург, Казань, Екатеринбург, Новосибирск, Краснодар). Ресурсные регионы (ХМАО, ЯНАО, НАО, Магаданская область, Чукотский автономный округ) хотя и могут демонстрировать высокие зарплаты, обеспечивают неустойчивый рост из-за зависимости от конъюнктуры и низкой диверсификации.
Экономическое неравенство между регионами — не просто статистический разрыв в доходах. Для жителей регионов с ограниченными возможностями эта реальность трансформируется в хронический стресс, отмечает профессор кафедры педагогики университета управления ТИСБИ Алексей Грязнов. По его словам, ограниченный доступ к качественному образованию и высокооплачиваемой работе в недиверсифицированных экономиках становится барьером, который подрывает чувство контроля над собственной жизнью. Постоянное осознание того, что шансы на успех предопределены местом рождения, а не личными усилиями, порождает усвоенную беспомощность и тревогу, говорит психолог: «Получается, что географическое и экономическое неравенство создает питательную среду для глубоких психологических проблем, формируя порочный круг, когда внутреннее состояние лишь закрепляет внешние ограничения».
На эту проблему накладывается культурный фактор. Член ученого совета Академии социальных технологий Игорь Ниесов обращает внимание на культуру высокой дистанции власти в России, которая способствует низкой вовлеченности работников. Люди привыкли к вертикальной иерархии, где власть сосредоточена у руководства, и воспринимают это как норму. В результате работники не проявляют инициативу, не готовы спорить или высказывать идеи, потому что не видят смысла менять устоявшийся порядок. Это снижает общую продуктивность труда на фоне тревог из-за неравенства, отмечает Ниесов.
КАК СОЗДАТЬ РАВНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ
В России проблему неравенства можно решить только через комплексный подход, уверен Васильковский.
«Необходимо повышать качество медицины, образования, социального окружения в регионах через программы выравнивания финансирования, привлечения сильных учителей. При условии повышения прозрачности и разных программ стимулирования для отработки бюджетного финансирования выпускников можно привлекать к работе в родных регионах», — полагает эксперт. Важными инструментами он считает поддержку одаренных детей и адресную помощь малообеспеченным семьям.
Еще одно важное направление — создание справедливой системы оплаты труда. По мнению Сафонова, государство должно выравнивать зарплаты в бюджетной сфере, где проще перераспределять средства. В рамках госпрограмм ключевое внимание нужно уделить занятости, разделяя коммерческую и государственную. В государственной системе работники должны получать одинаковую зарплату. Сейчас реализуется проект по дофинансированию тех регионов, которые не могут сами обеспечить достойные выплаты бюджетникам на уровне федеральных стандартов. «Помимо этого, необходимо пересмотреть статус бюджетников, приравняв их к госслужащим, как это сделано, к примеру, в Германии или Франции. Это позволит унифицировать подходы к оплате труда», — считает эксперт. Для коммерческого сектора важна постепенная поддержка роста МРОТ.
Сафонов называет ключевой задачей создание равных условий для экономического развития всех регионов. В качестве успешного примера — Австрия, где развитие инфраструктуры в горных зонах привело к улучшению уровня жизни и благосостояния жителей.
Киселева отмечает двойственную роль цифровизации: хотя она и помогает снижать неравенство, ее эффект нивелируется ростом платных услуг в образовании и здравоохранении. Она подчеркивает, что высшее образование остается ключевым социальным лифтом. «Молодежь теперь чаще выбирает среднее профессиональное образование, однако высшее образование все еще остается важным источником роста доходов, то есть играет роль социального лифта», — уверена аналитик. Также важно создавать рабочие места с достойной оплатой, в том числе поддерживать развитие малых городов, где проживает до 20% населения страны.
Васильковский отдельно выделяет необходимость борьбы с гендерным неравенством. Так, по данным Института статистических исследований и экономики знаний Высшей школы экономики, почти половина российских женщин в возрасте 25–34 лет имеют высшее образование, в то время как среди мужчин только треть. Но при этом женщины слабо представлены в топ-менеджменте и на высших политических должностях, концентрируются в менее оплачиваемых секторах и в среднем получают на 20–30% меньше, чем мужчины. Этот разрыв, по мнению Васильковского, можно сокращать через стимулирование женского предпринимательства и поддержку STEM-профессий — в сферах естественных наук, технологий, инженерии и математики.
Першина резюмирует, что для успеха необходимы масштабные инвестиции в человеческий капитал, точечные территориальные решения и ясные правила на рынке труда.
Ключевыми факторами, определяющими большее увеличение доходов, являются диверсифицированная экономика (чем больше отраслей, тем больше шансов карьерного роста), качественное и доступное образование, развитая инфраструктура (транспорт и цифровые технологии) и институциональные условия — уровень управления, доступ к государственным услугам и открытость делового климата, подытоживает Бухарский.